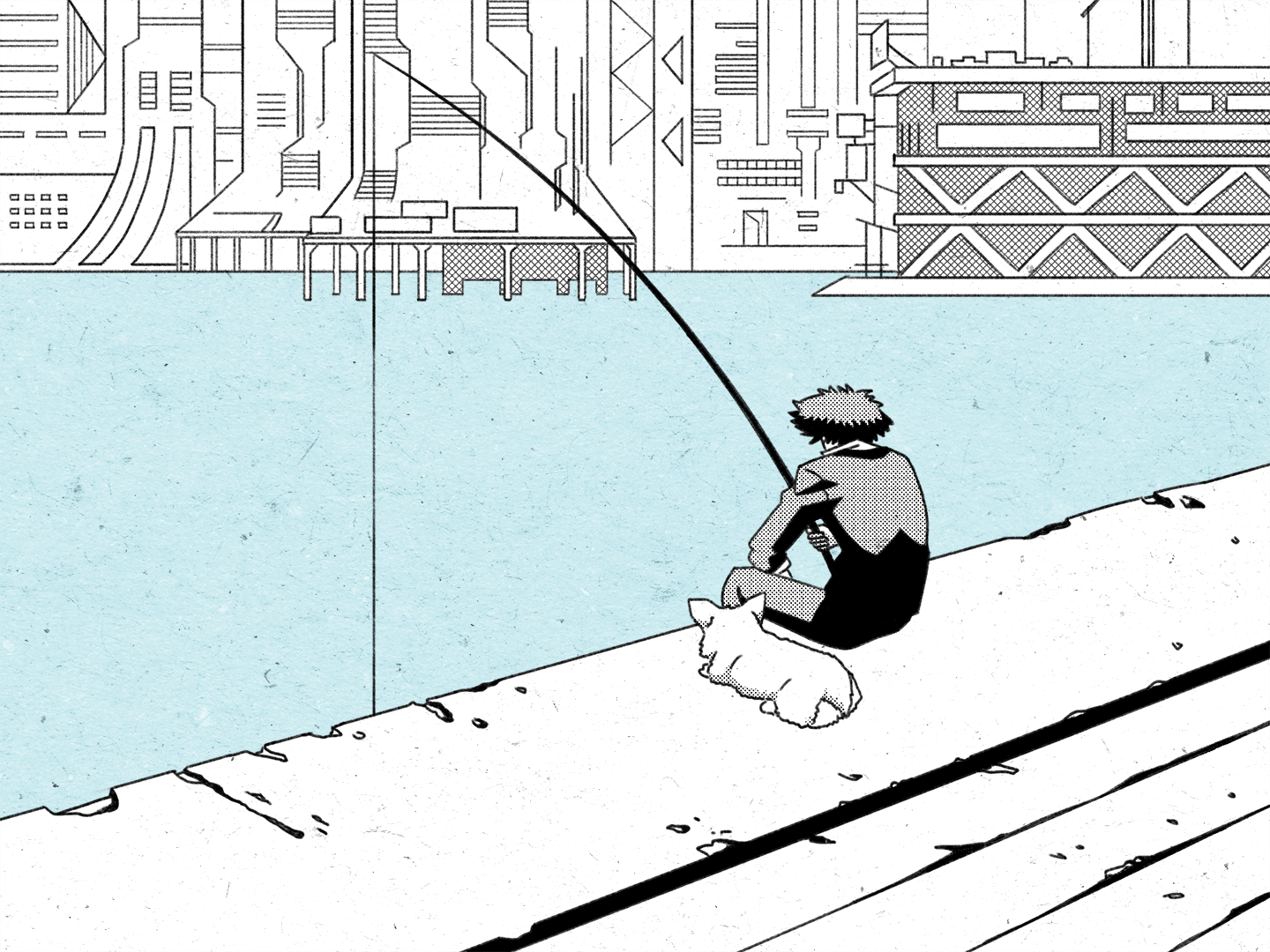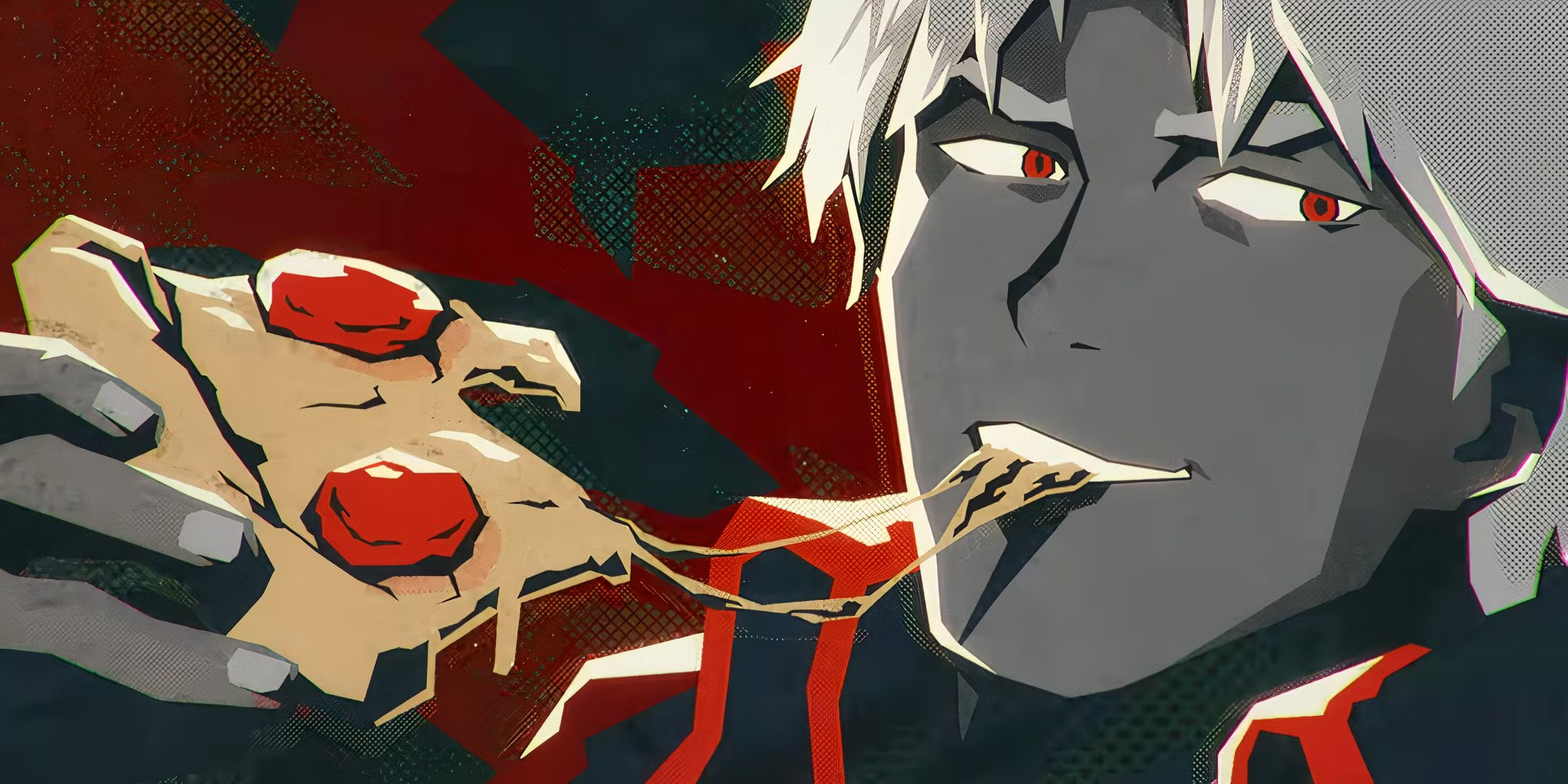Сюжет
Дрон беспристрастно наблюдает за ландшафтом бывшего Семипалатинского испытательного полигона. Бывшим он является на бумаге. Полигон, победно и помпезно закрывшийся с наступлением независимости, по-прежнему остается живым и опасным для людей, живущих в его окрестностях.
Визионерская работа Жананы Курмашевой умело соединяет в себе genius loci — дух местности — с личными историями семей, навсегда отмеченных шрамами от последствий испытаний. Именно так, постепенно, режиссёрка знакомит нас с героями картины.
Среди них пожилой мужчина Болатбек Балтабек, который родился в 1959 году на зимной стоянке Акшеке. Аксакал вспоминает, как радостно ребятня и взрослые выбегали посмотреть на взрывы, о которых объявляли по радио. Земля тряслась под их ногами, а дома ждали разбитая посуда и опрокинутая мебель.
Болатбек аға собирает подписи за пересмотр закона о полигоне, поддерживая инициативу комитета «Полигон-21». Показывая дом аксакала, взгляд камеры Куаныша Курманбаева падает на семейные фотографии. Среди улыбающихся лиц — молоденькая девушка, внучка Болатбека, страдающая от апластической анемии, редкого заболевания, при котором разрушаются клетки костного мозга.
Так, из села Саржал мы перемещаемся в город Семипалатинск, где борьбу с последствиями полигона ведет Балтабеков-младший. Нурбол Балтабеков, сын Болатбека аға, пытается доказать врачам связь между состоянием своей дочери и радиоактивными элементами. Для Нурбола, выросшего в селе Саржал, всего лишь в 38 километрах от полигона, болезнь дочери стала частью семейной трагедии.
Другим ключевым проводником в мир полигона становится ученый Дмитрий Калмыков. После закрытия полигона в 1991 году, Калмыков проводил первые экологические исследования и составлял карты экологического загрязнения. С ног до головы облаченный в герметичный радиационный защитный костюм, скорее напоминающий скафандр астронавта, Калмыков и его коллеги исследуют обширную территорию полигона.
С высоты дрона это место напоминает поверхность Луны или Марса. «Лучшая защита от радиации — расстояние и время» — уверенно приговаривает харизматичный исследователь. И здесь приходит осознание: ученые не на далекой Луне, а здесь, на нашей земле, где они проводят общественный экологический мониторинг, измеряя уровень радиации и информируя о ней людей.
Формализм и Анатомия сцены
Жанана Курмашева исследует тяжелую главу в истории Казахстана, но делает это впечатляющим образом: методически и эстетически. Формализм картины представлен атмосферно-мрачными ритмичными монтажными склейками: черно-белые архивные кадры (атомный гриб, взрывы, плоть), изображения животных, людей, рек и земли. Однако, подобный ассоциативный монтаж лишь усиливает эмоциональный эффект.
Тревожная музыка композиторки Акмарал Мерген нагнетает атмосферу, но в тоже время связывает прошлые катастрофы с реальностью, полной неопределенности и угроз. Её музыка напоминает творчество английской композиторки Мики Ливай, работавшей с Джонатаном Глейзером.
Давайте проведем анатомию начальной сцены. С высоты птичьего полета желтоватая степь не выглядит гостеприимно. Но, приблизившись, можно заметить, что и на такой земле полно жизни. Озеро в центре полигона усыпано стайками камышей. С неба камера спускается на самую землю, на которой трещины напоминают шрамы. На потрескавшейся земле сотни разбросанных черно-белых фотографий, раздуваемых ветром и тревожной музыкой Мерген. На кадрах семейные портреты сельчан, горожан, чабанов, пастухов и ученых — наc ждет коллективный портрет людей полигона.
Незаживающая рана
Курмашева невероятно умело вплетает в фильм многочисленные нити проблем, но делает это не дидактически. Ее фильм — это не ожившая статья из Википедии, а акт эмоциональной солидарности и художественной свободы. Это большое достижение!
«Содержание радиоактивных веществ — не проблема. Проблема в том, что там нет забора и нет знака, который показывает, что там лежат эти вещества» — удрученно поясняет ученый Калмыков. А это в свою очередь означает, что скот пасется на зараженной земле, запуская цепь необратимых реакций.
В одной из сцен, камера наблюдает как ученые измеряют уровень радиации возле озера в окрестностях полигона. Плавный монтаж Айданы Серик затем переносит нас в село Саржал, в дом Болатбека аға. Его лошади пощипывают траву, а аксакал подносит им воду. Откуда эта вода? Не из того ли озера, в котором из-за облучения деформировались рыбы? В следующей сцене — дойка коров, приготовление мант из фарша и совместная трапеза. В этой сцене мы видим человеческую и нечеловеческую (домашний скот, рыбы и озера) цену общей трагедии.
Бездействие и равнодушие властей находятся в центре локальных и национальных проблем. Ученые сетуют на нежелание государства компенсировать ущерб здоровью сельчан и горожан (ограждение, переселение, компенсация). Отцу больного ребенка приходится проходить через бюрократический лабиринт, чтобы доказать что апластическая анемия связана с радиацией. На что он получает ответ, что признаки заболеваний у различных поколений разные, а исследования над третьим и четвертым поколениями еще не были произведены.
История Болатбека, который пишет книгу о жертвах полигона, особенно задевает душу. Его воспоминания — это не просто свидетельства, а живая боль, застывшая в словах. Потеря его старшего сына намекает на связь ментального здоровья и последствий облучения, которые скорее всего мало изучены, если не изучены вовсе.
Заключение
«Мы здесь живем» — не только хроника трагедии, но и напоминание о хрупкости мира, о цене прогресса и о стойкости людей, которым пришлось жить в его тени. В мире, где державы не перестают угрожать ядерными атаки, фильм Курмашевой — это высказывание о том, к чему такая политика может привести. Впереди Курмашеву и продюссерку Бану Рамазанову ожидает североамериканская премьера на престижном кинофестивале Hot Docs. Лучшее заключение — строки из стихотворения Олжаса Сулейменова:
Мы, казахи, на этой каторге родились.
Мы прошли испытание
дымом костров и копытами,
в переулках ночных —
испытания горла ножом,
навсегда испытали вербованными чернозём,
радость радия и тяготенье земное испытано.
Вся земля в проводах, космодромах,
гектарах и станциях,
если дождь — это ливень,
а ветер — так суховей,
своих все испытавших,
страна, назови казахстанцами,
своих самых испытанных,
преданных сыновей.
Мы — твои однолюбы,
мы бережём, не глотая,
право —
зубы не стиснуть,
но выдержать,
право кричать
широтою степи, высотою хребтов
Алатау,
глубиною морей!..
Глубиною могил
не молчать.
И смеются у нас,
и земля, и трава мягка,
вольный Киев на станциях,
ай, балалайки Калуг,
ах, песчаный, песчаный суглинок
качает скалу,
ему тоже, песчаному, хочется под лемеха…
Поле Дикое — в Хлебное поле!
Время настало.
Если мир не тоскует — и ты, Казахстан, не грусти.
Мир испытан тобой.
Казахстан, если можешь, прости.
И
да здравствует
запрещение испытаний!